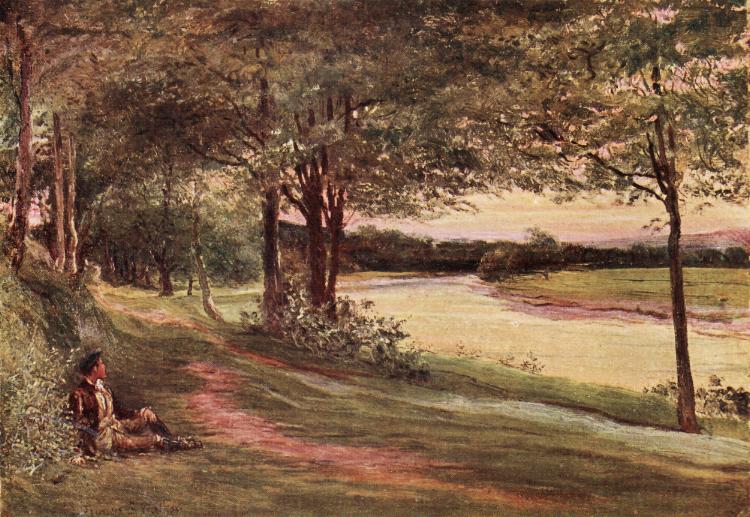|

|
| Home | Lermontov | Other Pushkin | Onegin Book I | Book II | Book III | Book IV | Book V | BookVI | BookVII | BookVIII | Gypsies | Chekhov |

CHEKHOV Artists' Wives.
|
ЖЁНЫ АРТИСТОВ (ПЕРЕВОД... С ПОРТУГАЛЬСКОГО) | Artists Wives | Artists Wives | ARTISTS' WIVES A Translation from the Portuguese | ||
|
Свободнейший гражданин столичного города Лиссабона, Альфонсо Зинзага, молодой романист, столь известный... только самому себе и подающий великие надежды... тоже самому себе, утомлённый целодневным хождением по бульварам и редакциям и голодный, как самая голодная собака, пришёл к себе домой. Обитал он в 147 номере гостиницы, известной в одном из его романов под именем гостиницы «Ядовитого лебедя». Вошедши в 147 номер, он окинул взглядом своё коротенькое, узенькое и невысокое жилище, покрутил носом и зажёг свечу, после чего взорам его представилась умилительная картина. Среди массы бумаг, книг, прошлогодних газет, ветхих стульев, сапог, халатов, кинжалов и колпаков, на маленькой, обитой сизым коленкором кушетке спала его хорошенькая жена, Амаранта. Умилённый Зинзага подошёл к ней и, после некоторого размышления, дёрнул её за руку. Она не просыпалась. Он дёрнул её за другую руку. Она глубоко вздохнула, но не проснулась. Он похлопал её по плечу, постукал пальцем по её мраморному лбу, потрогал за башмак, рванул за платье, чихнул на всю гостиницу, а она... даже и не пошевельнулась. «Вот спит-то! — подумал Зинзага.— Что за чёрт? Не приняла ли она яду? Моя
неудача с последним романом могла сильно повлиять на неё...» И Зинзага, сделав большие глаза, потряс кушетку. С Амаранты медленно
сползла какая-то книга и, шелестя, шлёпнулась об пол. Романист поднял книгу,
раскрыл её, взглянул и побледнел. Это была не какая-то и отнюдь не какая-нибудь
книга, а его последний роман, напечатанный на средства графа дон
Барабанта-Алимонда,— роман «Колесование в Санкт-Московске сорока четырёх
двадцатижёнцев», роман, как видите, из русской, значит самой интересной жизни —
и вдруг... — Она уснула, читая мой роман!?!— прошептал Зинзага.— Какое неуважение к
изданию графа Барабанта-Алимонда и к трудам Альфонсо Зинзаги, давшего ей
славное имя Зинзаги! — Женщина! — гаркнул Зинзага во всё своё португальское горло и стукнул
кулаком о край кушетки. Амаранта глубоко вздохнула, открыла свои чёрные глаза и улыбнулась. — Это ты, Альфонсо? — сказала она, протягивая руки. — Да, это я!.. Ты спишь? Ты... спишь?..— забормотал Альфонсо, садясь на
дрябло-хилый стул.— Что ты делала перед тем, как уснула? — Ходила к матери просить денег. — А потом? | A free citizen of the capital city of Lisbon, Alphonso Zinzaga, a young novelist, very well known… but only to himself, giving hope of future greatness … but also only to himself, being exhausted by a whole day of trudging the boulevards seeing editors, being as hungry as the hungriest of dogs, came back at last to his room. He lived in Room No. 147 of a letting house, which, in one of his novels, he had used, giving it the name of ‘The Venomous Swan Guest House’. Entering Room No. 147 he took in with a glance his tiny, narrow, low ceilinged abode, wrinkled his nose and lit a candle. As a result of this a very touching spectacle was presented before his eyes. In the midst of a mass of paper, books, last year’s magazines, ancient chairs, boots, overcoats, daggers and night-caps, on a small sofa upholstered in blue calico, slept his pretty wife, Amaranta. Moved by the sight Zinzaga went up to her and, after giving the matter some consideration, tugged her by the arm. She did not wake up. He pulled her by the other arm. She gave a deep sigh, but did not wake up. He patted her on the shoulder, tapped on her marble forehead with his finger, touched her shoe, gave a tug at her dress, sneezed loudly filling the whole building, but she did not so much as move. ‘So, she’s fast asleep!’
mused Zinzaga. ‘What the hell’s the
matter? She hasn’t taken poison has
she? Maybe my lack of success with that last
novel has gone to her head…’ Then Zinzaga, his eyes bulging, started to shake the couch. Some book or other slid off Amaranta and, making a rustling sound, fell with a flop on the floor. The novelist picked it up, opened it, glanced inside and turned pale. This was not any book, not by any means some book or other — it was his latest novel, published with the support of his patron Don Barabanta-Alimonda — the novel Breaking on the Wheel in Holy Moscow of forty four maidens???, a novel, as you see, about Russian life, and therefore supremely interesting, — and yet… “She fell asleep reading my novel!?!” whispered Zinzaga. “What disrespect towards the publications of Count Barabanta-Alimonda and to the work of Alphonso Zinzaga, to him who had given her the famous surname Zinzaga! “Woman!” he barked out in a full throated roar and banged his fist on the edge of the couch. Amaranta sighed deeply, opened her black eyes and smiled. “Is that you, Alphonso?” she said, stretching out her hands. “Yes, it’s me! Are you asleep? Are you still asleep?” he mumbled, sitting on an ancient rickety chair. “What were you doing before you fell asleep?” “I went to your mother’s to ask for some money.” “And afterwards?” | ||||
|
— Читала твой роман. — И уснула? Говори! И уснула? — И уснула... Ну, чего сердишься, Альфонсо? — Я не сержусь, но мне кажется оскорбительным, что ты так легкомысленно
относишься к тому, что если ещё и не дало, то даст мне славу! Ты уснула, потому
что читала мой роман! Я так понимаю этот сон! — Полно, Альфонсо! Твой роман я читала с большим наслаждением... Я
приковалась к твоему роману. Я... я... Меня особенно поразила сцена, где
молодой писатель, Альфонсо Зензега, застреливается из пистолета... — Эта сцена не из этого романа, а из «Тысячи огней»! — Да? Так какая же сцена поразила меня в этом романе? Ах, да... Я плакала
на том месте, где русский маркиз Иван Иванович бросается из её окна в реку...
реку... Волгу. — Ааааа... Гм! — И утопает, благословляя виконтессу Ксению Петровну... Я была поражена... — Почему же ты уснула, если была поражена? — Мне так хотелось спать! Я ведь всю ночь прошлую не спала. Всю ночь
напролёт ты был так мил, что читал мне свой новый, хороший роман, а
удовольствие слушать тебя я не могла променять на сон... — Аааа... Гм... Понимаю! Дай мне есть! — А разве ты ещё не обедал? — Нет. — Ты же, уходя
утром, сказал мне, что будешь сегодня обедать у редактора «Лиссабонских
губернских ведомостей»? — Да, я полагал, что моё стихотворение будет помещено в этих «Ведомостях»,
чтобы чёрт их взял! — Неужели же не помещено? — Нет... — Это несчастие! С тех пор, как я стала твоей, я всей душой ненавижу
редакторов! И ты голоден? — Голоден. — Бедняжка Альфонсо! И денег у тебя нет? — Гм... Что за вопрос?! Ничего нет поесть? — Нет, мой друг! Мать меня только покормила, а денег мне не дала. — Гм... | “I was reading your novel.” “And you fell asleep? Tell me! Did you fall asleep?” “And I fell asleep… Well, why are you so angry, Alphonso?” “I’m not angry, but it seems to me to be offensive that you can be so frivolously inclined to something which, even if it has not yet given me fame, yet it will in time! You fell asleep because you were reading my novel. That’s how I interpret your sleep!” “Really Alphonso! I read your novel with great pleasure. I was riveted by it. I… I… What specially struck me was the scene where the young writer, Alphonso Zenzega, shoots himself with a pistol…” “That’s a scene not from this novel, but from One Thousand Conflagrations!” “Really? Well what scene was it then that struck me? Ah, yes… I wept when the Russian marquis threw himself from her window into the river… the river… the Volga.” “Ahhhh…Hmmmm!” “And he drowns, blessing Kseniya Petrovna, the Viscountess… I was deeply moved…” “Why did you fall asleep if you were so deeply moved?” “I was so desperate to sleep! After all I didn’t sleep all last night. All through last night you were so loving, you read to me all of your new, wonderful novel, and I could not sleep rather than listen to you reading…” “Ahhh, I understand! Let me have something to eat!” “Haven’t you had your meal?” “No.” “But you told me, when you
went out this morning, that you would have dinner with the editor of the
‘Lisbon Government News’?” “Yes, I assumed that my poem would be featured in the ‘News’, but damn the whole lot of them!”“But surely it can’t be that they haven’t taken it?” “They haven't” “That’s bad news! Do you know, ever since we have been together, I have hated editors with all my heart! Are you really hungry?” “Yes.” “Poor Alphonso! Haven’t you any money?” “Hmph… What sort of question is that. Is there nothing to eat?” “Nothing, darling! Your mother only gave me a meal, she did not give me any money.” “Hmm…” The chair started to creak badly. Zinzaga stood up and paced up and down. Pacing around a bit and having considered the matter, he felt a strong urge to convince himself, at all costs, that hunger is faint-heartedness, that man is created for the struggle against nature, that man cannot live by bread alone, that he who is not hungry is not an artist, etc. etc. And in all probability he would have convinced himself if he had not, in his musings, remembered that alongside him, in Room No 148 of the ‘Venomous Swan’, lived a genre artist, an Italian, Francesco Butrontsa, a talented chap, known to a few connoisseurs and, (a fact so unimportant in this sub-lunar world) endowed with a capability which Zinzaga had never found in himself — the ability to have a square meal every day. | ||||
|
— Пойду к нему! — решил Зинзага и отправился к соседу. Вошедши в 148 номер, Зинзага увидел сцену, которая привела его в восторг,
как романиста, и ущемила за сердце, как голодного. Надежда пообедать в обществе
Франческо Бутронца канула в воду, когда романист среди рамок, подрамников,
безруких манекенов, мольбертов и стульев, увешанных полинялыми костюмами всех
родов и веков, усмотрел своего друга, Франческо Бутронца... Франческо Бутронца,
в шляпе a la Vandic 1 и в
костюме Петра Амьенского, 2 стоял на табурете, неистово махал муштабелем и гремел. Он был более чем
ужасен. Одна нога его стояла на табурете, другая на столе. Лицо его горело,
глаза блестели, эспаньолка дрожала, волосы его стояли дыбом и каждую минуту,
казалось, готовы были поднять его шляпу на воздух. В углу, прижавшись к статуе,
изображающей безрукого, безносого, с большим угловатым отверстием на груди
Аполлона, стояла жена горячего Франческо Бутронца, немочка Каролина, и с ужасом
смотрела на лампу. Она была бледна и дрожала всем телом. — Полноте! — начал Зинзага.— Что вы ссоритесь, дон Бутронца? Что сделала
вам донна Бутронца? Зачем вы доводите её до слёз? Вспомните вашу великую
родину, дон Бутронца, вашу родину, страну, в которой поклонение красоте тесно
связано с поклонением женщине! Вспомните! — Я возмущён! — закричал Бутронца.— Вы войдите в моё положение! Я, как вам
известно, принялся по предложению графа Барабанта-Алимонда за грандиозную
картину... Граф просил меня изобразить ветхозаветную Сусанну... Я прошу её, вот
эту толстую немку, раздеться и стать мне на натуру, прошу с самого утра, ползаю
на коленях, выхожу из себя, а она не хочет! Вы войдите в моё положение! Могу ли
я писать без натуры? — Я не могу! — зарыдала Каролина.— Ведь это неприлично! — Видите? Видите? Это — оправдание, чёрт возьми? |
| “I’ll go and see him!” Zinzaga decided, and he set off to call on his neighbour. On entering Apartment 148 Zinzaga found a scene which, as a novelist, delighted him, but, as a plain hungry man, caused him pain. The hope of dining with Francesco vanished into thin air when the novelist, in the midst of frames, sub-frames, armless models, easels and chairs covered with worn out costumes of all types and centuries, observed his friend Francesco… He was sporting a hat in the Van Dyck1 manner and his dress was reminiscent of Peter Amenskiy2. He was standing on a stool and furiously brandishing an artist’s stick and roaring. He was more than terrifying. One foot was on the stool, the other on the table. His face blazed, his eyes were radiant, his goatee beard shook, his hair stood on end and seemed to be ready every moment to lift his hat skywards. In the corner, clinging to a statue which depicted an armless and noseless statue of Apollo with great angular holes in his torso, stood the wife of the enraged Francesco, Karoline, a German girl, and with terror she looked at the lamp. She was pale and her whole body was shaking. “Barbarians!” roared the artist. “You do not love art, you suffocate it, damn the lot of you! What ever possessed me to marry you with your frigid German blood!?! How could I, idiot, free as the wind, a man, an eagle, a mountain deer, in a word, an artist, how could I bind myself to this block of ice stuffed full of prejudices and trivialities… Diablo3!!! You, you’re a lump of ice. You’re wooden, a stony lump of meat! You… you’re a fool! Yes, cry, you wretch, you overcooked bit of German sausage! Your husband is an artist, he’s not a merchant! Cry, you beer bottle! Is that you, Zinzaga? Don’t go away. Just wait. I’m glad that you’ve turned up… Just look at this woman!” And Butrontsa pointed with his left foot at Karolina. Karolina wept. “Oh come on!” said Zinzaga. “Why are you quarreling, Don Butrontsa? What has Donna Butrontsa done to you? Why are you making her cry? Remember your great country, Don Butrontsa, your country, your fatherland, in which worship of beauty is so closely bound up with worship of women! Remember!” “I am outraged!” shouted Butrontsa. “Look at it from my point of view! As you know, I undertook a painting, a gracious painting, under the instruction of Count Barabanta-Alimonda… The Count asked me to do a depiction of Susannah and the elders. So I asked her, this beefy German, I asked her to get undressed and pose for me in the nude, I have been asking her since this morning, I’ve crawled down on my knees in front of her, I’m at my wits end, but she won’t do it! Look at it from my point of view! How can I paint without a model?” “I can’t do it!” sobbed Karolina. After all it’s immodest!” “You see? You see? Is that your justification, damn you?”
| |||
|
— Я не могу! Честное слово, не могу! Велит мне раздеться да ещё стать у
окошка... — Мне так нужно! Я хочу изобразить Сусанну при лунном свете! Лунный свет
падает ей на грудь... Свет от факелов сбежавшихся фарисеев бьёт ей в спину...
Игра цветов! Я не могу иначе! — Ради искусства, донна,— сказал Зинзага,— вы должны забыть не только
стыдливость, но и все... чувства!.. — Не могу же я пересилить себя, дон Зинзага! Не могу же я стать у окна
напоказ! — Напоказ... Право, можно подумать, донна Бутронца, что вы боитесь глаз
толпы, которая, так сказать, если смотреть на неё... Точка зрения искусства и
разума, донна... такова, что... И Зинзага сказал что-то такое, чего умному человеку нельзя ни в сказке
сказать, ни пером написать,— что-то весьма приличное, но крайне непонятное. Каролина замахала руками и забегала по комнате, как бы боясь, чтобы её
насильно не раздели. — Я мою его кисти, палитры и тряпки, я пачкаю свои платья о его картины, я
хожу на уроки, чтобы прокормить его, я шью для него костюмы, я выношу запах
конопляного масла, стою по целым дням на натуре, всё делаю, но... голой? голой?
— не могу!!! — Я разведусь с тобой, рыжеволосая гарпигия! 4 — крикнул
Бутронца. — Куда же мне
деваться? — ахнула Каролина.— Дай мне денег, чтобы я могла доехать до Берлина,
откуда ты увёз меня, тогда и разводись! — Хорошо! Кончу Сусанну и отправлю тебя в твою Пруссию, страну тараканов,
испорченных колбас и трихины! — крикнул Бутронца, незаметно для самого себя
толкая локтём в грудь Зинзагу.— Ты не можешь быть моей женой, если не можешь
жертвовать собою для искусства! Ввввв... Ррр... Диабло! Каролина зарыдала, ухватилась за голову и опустилась на стул. — Что ты делаешь? — заорал Бутронца.— Ты села на мою палитру!! Каролина поднялась. Под ней действительно была палитра со свежеразведёнными
красками... О, боги! Зачем я не художник? Будь я художником, я дал бы
Португалии великую картину! Зинзага махнул рукой и выскочил из 148 номера, радуясь,
что он не художник, и скорбя всем сердцем, что он романист, которому не удалось
пообедать у художника. У дверей 147 номера его встретила бледная, встревоженная, дрожащая жилица
113 номера, жена будущего артиста королевских театров, Петра Петрученца-Петрурио.
— Что с вами? — спросил её Зинзага. — Ах, дон Зинзага! У нас несчастье! Что мне делать? Мой Пётр ушибся! — Как ушибся? — Учился падать и ударился виском о сундук. |
“I can’t do it! On my word of honour I can’t. He’s asking me to get undressed and to stand
in front of the window…” “But that is what I need! I want to depict Susannah in the light of the moon! The moonlight will fall on her breast. The light from the torches of the gathering pharisees will fall on her back… The play of light! I can’t do it in any other way!” “For the sake of art, Donna Butrontsa,” said Zinzage, “you must forget not only modesty, but all, all feelings!… “I cannot do it, I cannot overcome myself, Don Zinzaga! I cannot stand at the window in full view!” “In full view… True, one might think, Donna Butrontsa, that you fear the gaze of the crowd, which, so to speak, if one looks at it… The standpoint of art and reason, Donna… is such that…” And here Zinzaga came out with the sort of stuff that is impossible for a rational man to put in a story or recount with his pen, i.e. something very proper but extremely incomprehensible. Karolina waved her hands and rushed around the room as if fearing to be stripped of her clothes by force. “I wash his brushes, his easels and rags, I get my dresses dirty from his pictures, I go to lessons so as to feed him, I sew costumes for him, I put up with the smell of hemp oil, I stand for whole days as his model, I do everything, but… naked? Naked? I can’t do it!!!” “I will divorce you, you red-haired harpie4!” roared Butrontsa.
“What am I to do?” wailed
Karolina. Give me some money so that I
can get to Berlin, from where you took me, and then you can divorce me!” “Very well! I will finish Susannah and I’ll send you off to your Prussia, the country of beetles, rotten sausages and meat worms!” shouted Butrontsa, at the same time poking his elbow into Zinzaga’s chest, though he himself was unaware of it. “You cannot be my wife if you wont sacrifice yourself for art! I’ll…. I’ll… Diablo!” Karolina started to sob, clutched at her head and sat down on a chair. “What are you doing?” roared Butrontsa. “You’ve sat on my palette!” Karolina stood up. Beneath her was indeed a palette with newly squeezed out paints on it… Ye gods! Why am I not an artist? If I were an artist I would have given Portugal a most wonderful painting! Zinzaga waved his arms and left Room 148, feeling glad that he was not an artist, yet grieving with all his heart that he was a novelist who had not succeeded in dining with the artist. At the door of No. 147 the pale, agitated and trembling lodger of No. 113 met him. She was the wife of an up-and-coming actor in the Royal troupe, Peter Petruchenets-Petrurio. “What’s the matter with you?” enquired Zinzaga. “Ah, Don Zinzaga! We have had a misfortune. What can I do. My Peter has managed to injure himself.” “How did he do it?” “He was practising how to fall over, and he knocked his temple against a suitcase.” | ||||
|
— Несчастный! — Он умирает! Что мне делать? — К доктору, донна! — Но он не хочет доктора! Он не верит в медицину и к тому же... он всем
докторам должен. — В таком случае сходите в аптеку и купите свинцовой примочки. Эта примочка
очень помогает при ушибах. — А сколько стоит эта примочка? — Дёшево, очень дёшево, донна. — Благодарю вас. Вы всегда были хорошим другом моего Петра! У нас осталось
ещё немного денег, которые выручил он на любительском спектакле у графа
Барабанта-Алимонда... Не знаю, хватит ли?.. Вы... вы не можете дать немного
взаймы на эту оловянную примочку? — Свинцовую, донна. — Мы вам скоро отдадим. — Не могу, донна. Я истратил свои последние деньги на покупку трёх стоп
бумаги. — Прощайте! — Будьте здоровы! — сказал Зинзага и поклонился. Не успела отойти от него жена будущего артиста королевских театров, как он
увидел пред собою жилицу 101 номера, супругу опереточного певца, будущего
португальского Оффенбаха, виолончелиста и флейтиста Фердинанда Лай. — Что вам угодно? — спросил он её. — Дон Зинзага,— сказала супруга певца и музыканта, ломая руки,— будьте так любезны, уймите моего буяна! Вы друг его... Может быть, вам удастся остановить его. С самого утра бессовестный человек дерёт горло и своим пением жить мне не даёт! Ребёнку спать нельзя, а меня он просто на клочки рвёт своим баритоном! Ради бога, дон Зинзага! Мне соседей даже стыдно за него... Верите ли? И соседские дети не спят по его милости. Пойдёмте, пожалуйста! Может быть, вам удастся унять его как-нибудь. — К вашим услугам, донна! Зинзага подал жене певца и музыканта руку и отправился в 101 номер. В 101
номере между кроватью, занимающею половину, и колыбелью, занимающею четверть
номера, стоял пюпитр. На пюпитре лежали пожелтевшие ноты, а в ноты глядел
будущий португальский Оффенбах и пел. Трудно было сразу понять, что и как он
пел. Только по вспотевшему, красному лицу его и по впечатлению, которое
производил он на свои и чужие уши, можно было догадаться, что он пел и ужасно,
и мучительно, и с остервенением. Видно было, что он пел и в то же время
страдал. Он отбивал правой ногой и кулаком такт, причём поднимал высоко руку и
ногу, постоянно сбивал с пюпитра ноты, вытягивал шею, щурил глаза, кривил рот,
бил кулаком себя по животу... В колыбели лежал маленький человечек, который
криком, визгом и писком аккомпанировал своему расходившемуся папаше. |
“Unlucky man!” “He’s dying! What can I do?”“You
must go to the doctor, Donna!” “But he doesn’t want to go to the doctor. He doesn’t believe in medicine. Besides, he owes money to all the doctors.” “In that case, go to the chemist and buy some lead ointment. It’s an ointment that’s very useful for bruises.” “And
how much does this ointment cost?” “It’s
cheap, very cheap, Donna.” “Thank you. You’ve always been a good friend of my Peter! We have a little money left, which he made from an amateur performance at Count Barabanta-Alimonda… I don’t know if it’s enough? Could you… could you lend us a little for this pewter ointment?" “Lead
ointment, Donna.” “We’ll
pay it back quickly.” “I can’t, Donna. I spent my last money buying three reams of paper.” “Goodbye!” “All the best!” said Zinzaga and bowed. The wife of the up-and-coming actor of the Royal
troupe had hardly got away when he saw right in front of him the lodger of Room
101, the wife of an operetta singer, the up-and-coming Portuguese Offenbach,
the violinist and flautist Ferdinand Lay.
“What can I do for you?” he asked her. “Don Zinzaga,” said the wife of the singer and musician, wringing her hands, “would you be so kind as to calm down my frenzied husband!You are his friend… Perhaps you might be successful in stopping
him. From early morning the wretch has
been bawling at the top of his voice and his singing makes life impossible! The toddler can’t sleep and he’s simply
tearing me to shreds with his baritone.
For God’s sake help me Don Zinzaga!
I’m even ashamed in front of the neighbours, can you believe it? The neighbours’ children can’t sleep thanks
to him. Do come with me please. Perhaps you’ll be able to calm him down
somehow or other.” “At your service, Donna!”Zinzaga offered his arm to the wife of the singer and musician and set off for Romm 101. There he found, between the bed, which occupied half the room, and the cradle which occupied a quarter, stood a music stand. On the stand was lying some yellowed sheet music and the up-and-coming Portuguese Offenbach was looking at it and singing. It was difficult to understand at once what and how he was singing. But from his red, sweaty face and the impression he created on his own and other’s ears, it was possible to surmise that his singing was atrocious, tortuous and frenzied. It was evident that he sang and suffered at one and the same time. He was beating time with his fist and his right foot, as a result of which he lifted on high his arm and his foot and constantly knocked the music off the stand. He stretched his neck, squinted his eyes, twisted his mouth, beat his belly with his fist. In the cradle a young chappy was lying who, with his screams, squeaks and squeals accompanied his inspired papa. | ||||
|
— Дон Лай, не пора ли вам отдохнуть? — спросил Лая вошедший Зинзага. Лай не слышал. — Дон Лай, не пора ли вам отдохнуть? — повторил Зинзага. — Уберите его отсюда! — пропел Лай и указал подбородком на колыбель. — Что это вы разучиваете? — спросил Зинзага, стараясь перекричать Лая.— Что
вы разу-чи-ваете? Лай поперхнулся, замолк и уставил глаза на Зинзагу. — Вам что угодно? — спросил он. — Мне? Гм... Я... то есть... не пора ли вам отдохнуть? — А вам какое дело? — Но вы утомились, дон Лай! Что это вы разучиваете? — Кантату, посвящённую её сиятельству графине Барабанта-Алимонда. Впрочем,
вам какое дело? — Но уже ночь... Пора, некоторым образом, спать... — Я должен петь до десяти часов завтрашнего утра. Сон нам ничего не даст.
Пусть спят те, кому угодно, а я для блага Португалии, а может быть и всего
света, не должен спать. — Но, мой друг,— вмешалась жена,— мне и ребёнку нашему хочется спать! Ты
так громко кричишь, что нет возможности не только спать, по даже сидеть в
комнате! — Коли захочешь, так заснёшь! Сказавши это, Лай ударил ногой такт и запел. Зинзага заткнул
уши и как сумасшедший выскочил из 101 номера. Пришедши в свой номер, он увидел
умилительную картину. Его Амаранта сидела за столом и переписывала начисто одну
из его повестей. Из её больших глаз капали на черновую тетрадку крупные слёзы. — Амаранта! — крикнул он, хватая жену за руку.— Неужели жалкий герой моей
жалкой повести мог тронуть тебя до слёз? Неужели, Амаранта? — Нет, я плачу не над твоим героем... — Чего же? — спросил разочарованный Зинзага. — Моя подруга, жена твоего друга-скульптора, Софья
Фердрабантеро-Неракруц-Розга, разбила статую, которую готовил её муж для
поднесения графу Барабанта-Алимонда, и... не перенесла горя мужа... Отравилась
спичками! — Несчастная... статуя! О, жёны, чтобы чёрт вас взял, вместе с вашими
всезацепляющими шлейфами! Она отравилась? Чёрт возьми, тема для романа!!!
Впрочем, мелка!.. Всё смертно на этом свете, мой друг... Не сегодня, так
завтра, не завтра, так послезавтра, твоя подруга, всё одно, должна была
умереть... Утри свои слёзы и лучше, чем плакать, выслушай меня... — Тема для нового романа? — спросила тихо Амаранта. — Да... — Не лучше ли будет, мой друг, если я выслушаю тебя завтра утром? Утром мозги свежей как-то...
|
“Don Lai, isn’t it time for
you to have a break?” Zinzaga asked him as he entered the room. Don Lai did not hear him. “Don Lay, isn’t it time for
you to have a break?” Zinzaga repeated the question. “Take him out of here!” sang Don Lai, and pointed with his chin to the cradle. “What are you studying?” asked Zinzaga, trying to out-shout Don Lai. “What are you stud-y-ing?” Lai choked, became silent and fixed his gaze on Zinzaga. “What
do you want?” he asked. “Me? Hmm… that is… shouldn’t you have a rest?” “What
business is that of yours?” “But you are worn out, Don Lai. What is it that you’re studying?” “A cantata dedicated to her excellency Countess Barabanta-Alimonda. But all the same, what business is it of yours?” “Well,
it’s already night. Time, in a manner of
speaking, to sleep…” “I must sing until eight tomorrow morning. Sleep is no good for me. Let those sleep who wish to, but for the good of Portugal, and perhaps for the whole world, I must not sleep.” “But, my dearest,” interrupted the wife, “I myself and the little one want to sleep! You shout so loudly that it’s not only impossible to sleep, but it’s impossible even to sit in the room!” “If you want to, you’ll fall asleep!” And having said this Lai beat time with his foot and started to sing. Zinzaga blocked his ears and
leapt from the room like one deranged.
On arriving back at his own room he saw a very touching scene. His Amaranta was sitting at a table and was making
a clean copy of one of his stories. From
her large eyes big tears fell on the dark exercise book. “Amaranta,” he exclaimed, seizing his wife’s hand, “can it be that the pitiful hero of my pitiful tale has been able to move you to tears? Is it possible, Amaranta?” “No, I’m not crying over your hero…” “Well, what then?” asked the disenchanted
Zinzaga. “My friend, the wife of your friend the sculptor,
Sophia Ferdrabantero-Nerakruts-Rozga, broke a statue which her husband was
making for presentation to Count Barabanta-Alimonda, and… she couldn’t endure
her husband’s grief… She poisoned herself with matches.” “Oh the poor unfortunate… the statue! Ah, you wives, damn the lot of you, with your
dresses that catch on everything! She
poisoned herself? Damn it, a theme for a
novel!!! Still, it’s a trifle! Everything
on this earth is mortal, my friend. If
it were not today, then tomorrow, if not tomorrow, then the day after, your
friend, it’s all one, she has to die sometime… Wipe away your tears, and rather
than cry, listen to me.” “A theme for a new novel?” asked Amaranta
quietly. “Yes.” “Wouldn’t it be better if I listened to you tomorrow
morning? In the morning the mind is
fresher, somehow or other…” | ||||
|
— Нет, сегодня
выслушай. Завтра мне будет некогда. Приехал в Лиссабон русский писатель
Державин, и мне нужно будет завтра утром сделать ему визит. Он приехал вместе с
твоим любимым... к сожалению, любимым, Виктором Гюго. — Да? — Да... Выслушай же меня! Зинзага сел против Амаранты, откинул назад голову и начал: — Место действия весь свет... Португалия, Испания, Франция, Россия,
Бразилия и т. д. Герой в Лиссабоне узнаёт из газет о несчастии с героиней в
Нью-Йорке. Едет. Его хватают пираты, подкупленные агентами Бисмарка. Героиня —
агент Франции. В газетах намёки... Англичане. Секта поляков в Австрии и цыган в
Индии. Интриги. Герой в тюрьме. Его хотят подкупить. Понимаешь? Далее... Зинзага говорил увлекательно, горячо, махая руками, сверкая глазами...
говорил долго, долго... ужасно долго! Амаранта два раза засыпала и два раза просыпалась, на улицах потушили фонари
и взошло солнце, а он всё говорил. Пробило шесть часов, желудок Амаранты
ущемила тоска по утреннем чае, а он всё говорил. — Бисмарк подаёт в отставку, и герой, не желая долее скрывать своего имени, называет себя Альфонсо Зунзуга и умирает в страшных муках. Тихий ангел уносит в голубое небо его тихую душу... Так кончил
Зинзага, когда пробили семь часов. — Ну? — спросил он Амаранту.— Что скажешь? Не находишь ли ты, что сцену
между Альфонсо и Марией не пропустит цензура? А? — Нет, сценка мила! — Вообще хорошо? Ты говори откровенно. Ты женщина, а большинство моих
читателей — женщины, потому мне необходимо знать твоё мнение. — Как тебе сказать? Мне кажется, что я твоего героя где-то уже встречала,
не помню только, где именно... — Не может быть! — Право. С твоим героем я встречалась в одном романе, и, надо тебе сказать,
в глупейшем романе! Когда читала этот роман, я удивлялась, как это могут
печатать подобную чушь, а когда прочла его, то решила, что автор должен быть,
по меньшей мере, глуп как пробка... Чушь печатают, а тебя мало печатают.
Удивительно! — Не припомнишь ли хотя название этого романа? — Названия не помню, но имя героя помню. Это имя врезалось мне в память,
потому что имеет в себе четыре «р» подряд... Глупое имя... Карррро! — Не в романе ли «Сомнамбула среди океана»? — Да, да, да, в этом самом. Как хорошо ты помнишь нашу литературу! В этом
самом... Твой герой очень похож на Карррро, но твой, разумеется, умней. Что с тобой, Альфонсо? |
“No, listen to me now. Tomorrow I won’t have time. A Russian writer has come to Lisbon,
Derzhavin, and tomorrow morning I must call on him. He came yesterday with that writer you love,
your beloved, unfortunately, Victor Hugo.” “Really?” “Yes… Now listen to me.” Zinzaga sat opposite Amaranta, threw back his head and started: “The scene of action is the whole world… Portugal, Spain, France, Russia, Brazil, and so on. The hero, in Lisbon, learns from the papers about an accident to the heroine in New-York. He sets out. Pirates seize him who have been hired by secret agents of Bismarck. The heroine is a secret agent for France. The newspapers hint about English involvement. There is a group of Poles in Austria and a gypsy in India. Intrigues. The hero is in prison. They want to bribe him. Do you understand it? Then afterwards…” Zinzaga spoke convincingly, with fervour, waving his
arms and with flashing eyes… he spoke at length, at great length, a terribly
long time! Amaranta twice dozed off and twice woke up, on the streets the lights were put out and the sun rose, and he still went on. Six o’clock struck, Amaranta’s stomach felt the need for morning tea, but still he went on. “Bismarck tenders his resignation and the hero, not wishing to hide his name any longer, reveals himself as Alphonso Zunzuga and dies under dreadful torture. The angel of peace carries his peaceful soul up to the blue heavens..." Thus Zinzaga finished as it
struck seven. “Well?” he asked Amaranta. “What do you think of it? Do you think that the scene between Alphonso and Maria will not be passed by the censor? Well?” “No, it’s a charming scene!” “Generally it’s okay? Tell me honestly. You’re a woman, and the majority of my
readers are women. So I really must know
what you think of it.” “I don’t know how to put it. It seems to me that I’ve already met your hero somewhere, but I can’t remember exactly where…” “But
that’s impossible!” “It’s true. I met your hero in another novel, and I must tell you, it was the most idiotic novel! When I read it I marvelled how they could print such rubbish, and when I read it through I decided that the author must be, at the very least, as doltish as a cork… They publish such rubbish, and they publish so little of yours. It’s amazing!” “Can’t you remember at least the title of this
novel?” “I don’t remember the title, but I remember the
hero’s name. The name is engraved in my
memory because it has four ‘r’s in a row
in it. A stupid name… Karrrro!”
“Wasn’t it in the novel Sleepwalking on the Oceans?”
“Yes, yes, yes, that’s the very one. How well you remember our literature! That very one! Your hero is very like Karrrro, but yours, of
course, is cleverer. What’s the matter Alphonso?” | ||||
|
Альфонсо вскочил. — «Сомнамбула среди океана» — мой роман!!! — крикнул он. Амаранта покраснела. — Значит, это мой роман глупейший, мой? — крикнул он так громко, что даже у
Амаранты заболело горло.— Ах, ты, безмозглая утка! Так-то вы, сударыня,
смотрите на мои произведения? Так-то, ослица? Проговорились? Больше меня уж вы
не увидите! Прощайте! Гм... бррр... идиотка! Мой роман глупейший?! Граф
Барабанта-Алимонда знал, что издавал! Бросив презрительный взгляд на жену, Зинзага нахлобучил на глаза шляпу, хлопнул дверью и вышел из 147 номера. «Вниманию португальцев и их дочерей. В одном из городов Америки, открытой
Христофором Колумбом, человеком крайне энергичным и отважным, жил-был себе
доктор Таннер. Этот Таннер был более артистом в своём роде, чем учёным, а
потому известен земному шару и Португалии не как учёный, а как артист в своём
роде. Будучи американцем, он в то же самое время был и человеком, а если он был
человеком, то рано или поздно он должен был влюбиться, что и сделал он однажды.
Влюбился он в одну прекрасную американку, влюбился до безумия, как артист,
влюбился до того, что однажды вместо aquae distillatae 5
прописал argentum nitricum 6,—
влюбился, предложил руку и женился. Жил он с прекрасной американкой на первых
порах весьма счастливо, так счастливо, что медовый месяц 7
тянулся, вопреки естеству этого месяца, не месяц, а шесть месяцев. 8 |
Alphonso sprang up. “Sleepwalking
on the Oceans is my novel!!!” he shouted.
Amaranta blushed.
“Evidently then, my novel is idiotic, my novel?” he
shouted at such volume that even Amaranta’s throat started to ache. “Ahh, you brainless mallard! Is that how you, mistress, look at my
works? Is that it, she-ass? Have you spoken your mind? You wont see me ever again! Goodbye!
Hmm… Phew… Idiot! My novel is
idiotic? Count Barabanta-Alimonda knew
what he was publishing!” Throwing a contemptuous glance at his wife Zinzaga
crammed his hat down over his eyes, slammed the door and left Room No.
147. ‘For the attention of the Portuguese and their daughters. In one of the towns of America, discovered by Christopher Columbus, a man who was most energetic and serious, lived and breathed a doctor by the name of Tanner. This Tanner was more of an artist in his own right than a scholar, and therefore he was known in the world’s sphere and to the Portuguese not as a scholar, but as an artist in his own right. Being an American, he was at the same time a human being, and since he was a human being, he must at some time or other fall in love, which, on a certain occasion, he did. He fell in love with a very beautiful American girl, fell in love insanely, like an artist, he fell in love to such an extent that once, instead of prescribing aquae distillatae5 he wrote argentum nitricum6. He fell in love, offered his hand, and got married. He lived with his beautiful American lass in the early days extremely happily, so happily that the honeymoon7 dragged out, against the nature of a honeymoon, not one month, but a whole six months8. There is no doubt that Tanner, being a learned man, and consequently very easygoing, would have lived out his span happily with his | ||||
|
Нет сомнения, что Таннер, будучи человеком учёным, а следовательно, и самым уживчивым, прожил бы с женой счастливо до самой
могилы, если бы не усмотрел за нею одного страшного порока. Порок madame Таннер заключался в том, что она ела
по-человечески. Этот порок жены кольнул Таннера в самое сердце. „Я перевоспитаю
её!“ — задал он себе задачу и начал развивать m-me Таннер. Сперва отучил он её завтракать и ужинать, потом чай пить. Через
год после свадьбы m-me Таннер приготовляла к обеду уже не
четыре, а только одно блюдо, через два же года после подписания свадебного
контракта она умела уже довольствоваться баснословным количеством пищи. А именно,
в одни сутки поедала и выпивала она следующее количество питательных веществ: 1 gr. солей
5 gr. белковых веществ 2 gr. жира 7 gr. воды (дистиллированной) 1/23 gr.
венгерского вина Итого 15 1/23
гран. Газов мы не считаем, потому что наука ещё не в состоянии точно определять количеств потребляемых нами газов. Таннер торжествовал, но недолго. На четвёртый год его брачной жизни его начала терзать мысль, что m-me Таннер поедает много белковых веществ. Он ещё с большей энергией принялся за дрессировку и, пожалуй, достиг бы сокращения 5 гран до одного или нуля, если бы не почувствовал, что он разлюбил свою жену. Будучи эстетиком, он не мог не разлюбить своей жены. M-me Таннер, вместо того, чтобы до глубокой старости быть американской красавицей, вздумала ни с того ни с сего обратиться в подобие американской щепки, лишиться своих прекрасных форм и умственных способностей, чем и показала, что она хотя и годится ещё для дальнейших дрессировок, но стала уже совершенно негодной для супружеской жизни. D-r Таннер потребовал развода. Явились в его дом учёные эксперты, осмотрели со всех сторон m-me Таннер, посоветовали ей ехать на воды, делать гимнастику, прописали ей диету и нашли требование своего уважаемого коллеги вполне законным. D-r Таннер дал своим коллегам-экспертам по доллару, угостил их хорошим завтраком и... с этих пор Таннер живёт в одном месте, а жена его в другом. Печальная история! Женщины, как часто вы бываете причиною несчастий великих людей! Женщины, не вы ли виновницы того, что великие люди очень часто не оставляют после себя потомства? Португальцы, на вашей совести лежит воспитание ваших дочерей! Не делайте из ваших дочерей разорительниц домашних очагов и гнёзд!! Мы кончили. Завтрашний номер, по случаю дня рождения редактора, не выйдет. Португальцы! Кто из вас не взнёс подписных денег сполна, тот пусть поспешит доплатить!» |
wife till the grave’s portal, had he not observed
one terrible vice in her. The vice of
Madam Tanner consisted of the fact that she ate like a human being. This vice of his wife struck to the very
heart of Tanner. “I will re-educate
her!” he declared, setting himself the
task, and he started to develop Madame Tanner. Firstly he taught her to give up breakfast and
supper, then to give up drinking tea. A
year after her marriage Madame Tanner no longer prepared four courses for
dinner, but one; two years after signing the marriage contract she was able to
satisfy herself with a fabulous quantity of food. More precisely, in one day, in one day she
ate and drank the following quantity of nutrients: 1gr. salt; 5gr. white meat; 2 gr. fat; 7gr. water (distilled), 1/23 gr. Hungarian wine. Total 15 1/23 grains. Gases we do not count, because science is not yet capable of defining accurately the quantity of gases that we use. So Tanner triumphed, but not
for long. In the fourth year of his
married life the thought began to torment him that Madame Tanner was eating a
lot of white meat. He even undertook,
with a great deal of energy, to train her, and perhaps, he would have attained
the shortening of her rations from 5 grains to one, or even zero, had it not
been for the fact that he felt that he had fallen out of love with his
wife. Being an aesthete he was not
| ||||
|
— Бедная m-me Таннер! — прошептала Амаранта, пробежав
этот рассказец.— Бедная! Как она несчастлива! О, как я счастлива сравнительно с
нею! Как я счастлива! Амаранта, обрадованная тем, что есть на этом свете люди несчастнее её,
старательно сложила газетный лист, положила его в коробочку и, радуясь, что она
не m-me Таннер, разделась и легла спать. Спала она до тех пор, пока не разбудил её ужаснейший голод в лице Альфонсо
Зинзаги. — Я хочу есть! — сказал Зинзага.— Оденься, моя дорогая, и ступай к своей madre за
деньгами. A propos: 9 я
извиняюсь перед тобой. Я был неправ. Я сейчас только узнал от русского писателя
Державина, который приехал вместе с Лермантофф, другим русским писателем, что
есть два романа, совершенно не похожие друг на друга и носящие одно и то же
имя: «Сомнамбула среди океана». Иди, мой друг! И Зинзага рассказал Амаранте, пока она одевалась, один случай, который он
намерен описать, сказав между прочим, мимоходом, что описание этого трогающего
за душу и тело случая потребует у неё некоторой жертвы. — Жертва, мой друг, будет невелика! — сказал он.— Ты должна будешь писать это описание под мою диктовку, что отнимет у тебя не более семи-восьми часов, и переписать его начисто и между прочим, этак мимоходом, изложить на бумаге и своё мнение относительно всех моих произведений... Ты женщина, а большинство моих читателей составляют женщины... Зинзага немножко солгал. Нe большинство, а всех его читателей составляла одна только
женщина, потому что Амаранта была не «женщины», а только всего «женщина». — Согласна? — Да,— сказала тихо Амаранта, побледнела и упала без чувств на
растрёпанный, вечно валяющийся, пыльный энциклопедический словарь... — Удивительный народ эти женщины! — воскликнул Зинзага.— Прав был я, когда
назвал женщину в «Тысяче огней» существом, которое вечно будет загадкой и
удивлением для рода человеческого! Малейшая радость способна повалить её на
пол! О, женские нервы! И счастливый Зинзага опустился на колено перед несчастной Амарантой и
поцеловал её в лоб... Такие-то дела, читательницы! Знаете что, девицы и вдовы? Не выходите вы замуж за этих артистов! «Цур им
и пек, этим артистам!», как говорят хохлы. Лучше, девицы и вдовы, жить
где-нибудь в табачной лавочке или продавать гусей на базаре, чем жить в самом
лучшем номере «Ядовитого лебедя», с самым лучшим протеже графа
Барабанта-Алимонда. Право, лучше! 1880
NOTES 1. ...в шляпе a la Vandic... — в
стиле фламандского художника А.Ван Дейка (1599—1641). |
“Poor Mme. Tanner,”
whispered Aramanta, skimming through this story. “Poor woman!
How unhappy she was! How happy I
am in comparison with her! How happy I
am!” Amaranta, rejoicing in the fact that there were on this earth people more unhappy than her, carefully folded the newspaper page, placed it in the box and, happy that she was not Mme. Tanner, got undressed and went to bed. She slept until she was woken up by the most
dreadful expression of hunger on the face of Alphonso Zinzaga. “I must eat!” he said. “Get dressed dear, and go to your mother for
some money. A propos9, I beg forgiveness from you, I was wrong.
I have only just learned from the Russian author Derzhavin, who arrived
here in the company of Lermontoff, another Russian author, that there are two
novels, absolutely unlike each other but having the same title, Sleepwalking on the Oceans. Come on dearest!” And Zinzaga told Amaranta, while she got dressed, of
an incident which he intended to write up, saying meanwhile, in passing, that
the description of the incident which touched both body and soul would require
some sacrifice on her part. thoughts about all my work. You are a women and the majority of my
readers are women.” Zinzaga lied slightly here. Not the majority, but all of his readers
consisted of only one woman, because Aramanta was not ‘women’, but being all of
the readers was just one woman. “Is that alright?”
“Yes,” said
Amaranta quietly. She turned pale and
fell unconscious on the ragged and torn, always lying around, dusty
encyclopaediaic dictionary. “What extraordinary creatures these women are!”
exclaimed Zinzaga. “I was right when I
called woman in my novel A Thousand Fires
a being who will perpetually be a wonder and a puzzle for the human race! The least delight is able to knock her out of
her senses. Ah, women’s nerves!” And the happy Zinzaga fell on his knees in fromt of
the unfortunate Amaranta and kissed her forehead. That is the way things are, readers! Do you know what, girls and widows? Do not marry one of these artists! ‘May the goblins drive them to their
distraction, these artists!’ as the Ukrainians say. Better, maidens and widows, to live somewhere
in a tobacco shop or sell geese at the market, than live in the very best room
of ‘The Venomous Swan’, with the very
best protegé of Count Barabanta-Alimonda.
Truly, it is infinitely better! 1880 NOTES The
notes to this story were all written by Chekhov. 1. In the style of the Flemish painter Anthony
Van Dyck, 1599-1641 |
| Home | Lermontov | Other Pushkin | Onegin Book I | Book II | Book III | Book IV | Book V | BookVI | BookVII | BookVIII | Gypsies | Chekhov |